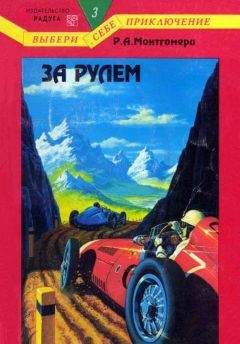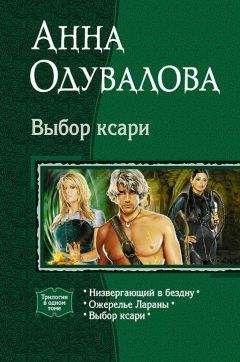Стэн Барстоу - Любовь… любовь?
— Какие деньги? — спросил Скерридж.
— Все в порядке, Фред. Ты чертовски верно поступил. Ну, что такое деньги? Я тебе скажу, что это такое — это проклятие для всего человечества, проклятие… И все равно я б хотел, чтоб их у меня был целый погреб. Вот если бы у меня был их целый погреб, я бы купил девятигаллоновую бочку пива, спускался бы каждый вечер вниз, пил бы и пересчитывал денежки. Я бы и тебя позвал, Фред, чтобы ты мне помог. Уж я бы не забыл тебя, нет, ни в коем разе. Я старых друзей не забываю. Ну, к чему они, деньги, если человек перестал иметь приятелей?
Уилли икнул.
— Дружба — это главное.
— Ничего вернее, Уилли, ты в жизни не сказал, — подтвердил Чарли. Он снова обхватил Уилли за плечи и повис на нем. — Сердце у тебя там, где надо, Уилли, мой мальчик.
Они расстались на углу, и, когда Скерридж уже отошёл, на несколько шагов, Чарли крикнул ему вслед:
— Смотри, не забудь прокатить меня на своем «роллс-ройсе».
Скерридж помахал бутылкой рома над головой.
— В любое время. В любое время.
Проходя через город по Корпорейшен-стрит, он вдруг подумал, что надо послать телеграмму в контору лотереи и потребовать выигрыш. Ведь так это, наверно, делается? Человек посылает телеграмму, требуя выигрыш, а потом — заказное письмо. Но почта была закрыта — фасад ее темнел через улицу. Некоторое время он озадаченно смотрел на здание. Как же послать телеграмму, если почта закрыта? Почему те, из лотереи, этого не предусмотрели? Тут он увидел тусклую полоску света под дверью почты и, вспомнив о существовании телефона, нетвердым шагом направился через пустынную улицу. Очутившись в будке, он некоторое время тупо смотрел на черную трубку, потом медленно поднял руку и поднес трубку к уху. Он никогда прежде не пользовался телефоном-автоматом и, услышав тихий голос у самого своего уха, вдруг испугался и грохнул трубкой о рычаг, словно она обожгла ему руку. Только тут, стоя в будке и тяжело дыша, он вспомнил, что для разговора нужна мелочь. Он принялся шарить по карманам. В результате длительных поисков на свет появились всего две монеты — шестипенсовик и пенни, они лежали на ладони Скерриджа, и он смотрел на них со смешанным чувством облегчения и сожаления. Сожаления от того, что он не может заявить о своем выигрыше, и облегчения от того, что можно отложить сложную процедуру отправки телеграммы до завтрашнего дня.
Выйдя на улицу, он снова подумал о том, как зло может посмеяться над человеком судьба: надо же — иметь сто тысяч фунтов и не иметь в кармане денег, чтобы доехать на такси домой. Он огляделся, определяя, где он находится, и повернул в направлении дома. Тут он вспомнил о своей жене. М-да! Вот это будет ей сюрпризик! Ведь она никогда не верила. Все требовала у него денег на всякие разносолы да на то, чтобы кур держать. Кур! О господи! А еще она требовала денег на этот старый барак — их дом. Ну, теперь-то у нее будут денежки — сколько душе угодно. Она увидит, что Фред Скерридж зла не помнит. Она увидит, что он за человек. И вообще они уедут из этого богом забытого места куда-нибудь, где легче жить, где много солнца и не надо спускаться в эту черную дыру и гнуть там спину, чтоб заработать на жизнь. Хватит с него. Он теперь свободен… свободен…
Где-то на задворках, на окраине города, он налетел на газетный киоск, привалился к двери, упал, потом сел. Откупорив бутылку, он сделал большой глоток рома. Потряс головой, вздрогнул, перекосился весь и выдохнул: «У-ух!» Немного погодя в лужице света, образовавшейся под фонарем у киоска, появилась тощая тень дворняги, шкура ее в полумраке отливала желтизной. Собака подошла к киоску и ткнулась холодным носом в руку Скерриджа. Он почесал ее за ушами, приговаривая: «Ну, ну, старина, чего ты!» А собака в ответ лизнула его в руку. «Ну, чего ты торчишь на улице в такую ночь?» — сказал Скерридж. «Сидела бы дома — тепло, уютно, славно. У тебя что, дома нет, что ли?» Он поискал на ощупь ошейник. «Э-э, да ты ничейная, а? Сама, значит, по себе… сама по себе живешь». Собака уселась подле него, продолжая время от времени тыкаться мордой ему в руку. «У меня когда-то тоже была собака, — сказал Скерридж. — Похожая на тебя — почти такая же. Только давно это было. Замечательный был пес… чудо. Он приходил встречать меня на шахту. Переехали его однажды утром в субботу — я как раз с шахты выходил. Грузовик с углем переехал. Полнехонек был. От собаки осталось одно месиво. Нельзя было даже взять домой, чтоб похоронить. Шофер лопатой сгреб останки и увез куда-то. Я даже не знаю куда. Очень я тогда горевал. Эта собака была мне как друг. Ее звали Томми. А как ела! В жизни не видал, чтобы кто-нибудь так ел. Не успеешь, бывало, глазом моргнуть, как она целый бифштекс слопает». Он провел рукой по впалым бокам собаки, по ее торчащим ребрам. «А ты, старина, давно, видно, не ел бифштексов. Ну, да ничего. Думается, скоро и на твоей улице будет праздник. Повезло мне сегодня, вот что я тебе скажу. Так повезло, как еще никогда в жизни. Первый и единственный раз. Никогда такого не было… Разве что тогда, когда я женился на своей миссис. Неплохой билет я тогда вытащил. Жена у меня совсем неплохая. А теперь я ее озолочу. Купаться будет в деньгах, вот что. Да уж тут этот скряга — ее папаша ничего бы не мог сказать. Он все свои денежки церкви оставил, когда мы чуть с голоду не дохли. Заявил, что никуда я не гожусь и никакого проку из меня не будет. Эх, хотел бы я, чтобы он был живой и видел меня сейчас. Может, все-таки он следит за нами с того места, где сейчас находится. Старый черт, ни разу доброго слова не сказал ни человеку, ни скотине. А я вот не такой. У меня всегда была слабость к животным. Таким, как ты. Ты, старина, малый замечательный, хоть ты и ничейный и никому не нужен. А плохо это, наверно, когда ты никому не нужен? Уверен, чертовски плохо. Так вот!..» — сказал он вдруг, приподнимая морду собаки. «Я тебе вот что скажу: повезло тебе. Ты теперь пойдешь ко мне домой. Ну что, по душе тебе это? По душе?»
Он приложил руку ко лбу и что-то забормотал про себя. Внезапно он почувствовал, что ему плохо, очень плохо. «Пора нам с тобой домой двигаться, — сказал он собаке. — Нельзя же провести здесь всю ночь». Он попытался было встать на ноги, но тотчас упал с таким грохотом, что даже киоск затрясся. Посидел немного и снова попытался встать — его качнуло так, что он отлетел на середину улицы. «Пошли, дружище, — сказал он, обращаясь к собаке. — Пошли, мальчик».
Нескоро он добрался до тропинки, пересекавшей лес, — шел он медленно, то пошатываясь, то спотыкаясь о тротуар, то делая замысловатые петли по мостовой, а время от времени и вовсе останавливался, притулившись к какой-нибудь стене, и припадал губами к бутылке. Тропинка, круто поднимавшаяся вверх, заледенела под снегом и походила на застывший водопад, по ней и трезвому-то было бы трудно пройти, а уж для человека, находящегося в том состоянии, в каком был Скерридж, и вовсе невозможно. Он падал на четвереньки почти на каждом шагу; наконец он сошел с тропки и двинулся напрямик вверх по, склону — от одного черного, изогнутого, засыпанного снегом дерева к другому; собака с бесконечным терпением следовала за ним. Почти у самой вершины холма он зацепился ногой за корень и упал плашмя прямо в снег, больно ударившись головой о ствол. Несколько минут он лежал без сознания, а когда пришел в себя, то что-то пробормотал, ошалело потряс головой, потом поднялся и неверным шагом побрел дальше, вверх, где уже не было деревьев. Лишь подойдя к задней двери дома, он заметил, что в окнах нет света. Он взялся за ручку и дернул дверь, подумав сначала, что ее просто заело, и только потом понял, что она заперта. Что за шуточки! Он постучал, затем распалясь гневом, ударил изо всей силы кулаком.
— Хильда! — рявкнул он. — Открой!
Но изнутри не доносилось ни звука, и, подождав немного он направился к парадной двери. Как он и ожидал, эта дверь была тоже заперта. Она всегда была заперта — они не пользовались ею уже пятнадцать лет. Он вернулся назад, тихонько ругаясь на чем свет стоит. Не нарочно же она заперлась!
Не могла она запереться от него!
Никогда она такого бы себе не позволила. И уж во всяком случае, не сегодня, когда у него такая удача. Собака стояла в некотором отдалении и наблюдала за ним, а он стоял в снегу, свесив голову, раздумывая, что же делать. Ему было плохо, очень плохо. Боль стучала в голове, и он с трудом держался на ногах. Приложив холодную дрожащую руку ко лбу, он застыл, ничего не сознавая, кроме боли, ничего не чувствуя, ни о чем не думая. У него даже память отшибло. Поэтому, когда он наконец пришел в себя, он не мог припомнить, как он очутился тут — один, в темноте, на снегу.
Он опустился на ступеньки крыльца, стараясь забиться подальше в уголок, чтоб не так дуло, и вытащил бутылку с ромом. Сделал большой глоток, чувствуя, как спирт обжигает глотку и теплой волной растекается но телу. На секунду он словно ожил, потом боль вернулась снова, еще более сильная, чем прежде, и захлестнула его черной волной. Он выронил бутылку, сжал голову руками и застонал. Что же это такое? Он хочет войти в дом. Хочет войти в дом, к Хильде. Ему надо что-то ей рассказать. Что-то хорошее. Что-то радостное. И вот извольте — он не может к ней попасть. Не может войти и порадовать ее. А теперь он уже и не помнит, что же такое он хотел ей рассказать. Он только знал, что это что-то хорошее, потому что до того, как ему стало худо, он чему-то очень радовался. Никогда еще ему не было так худо… Внезапно он поднялся, покачиваясь, на ноги и изо всей силы заорал: «Хильда, Хильда, пусти меня!», так что испуганная собака кинулась прочь, под деревья.